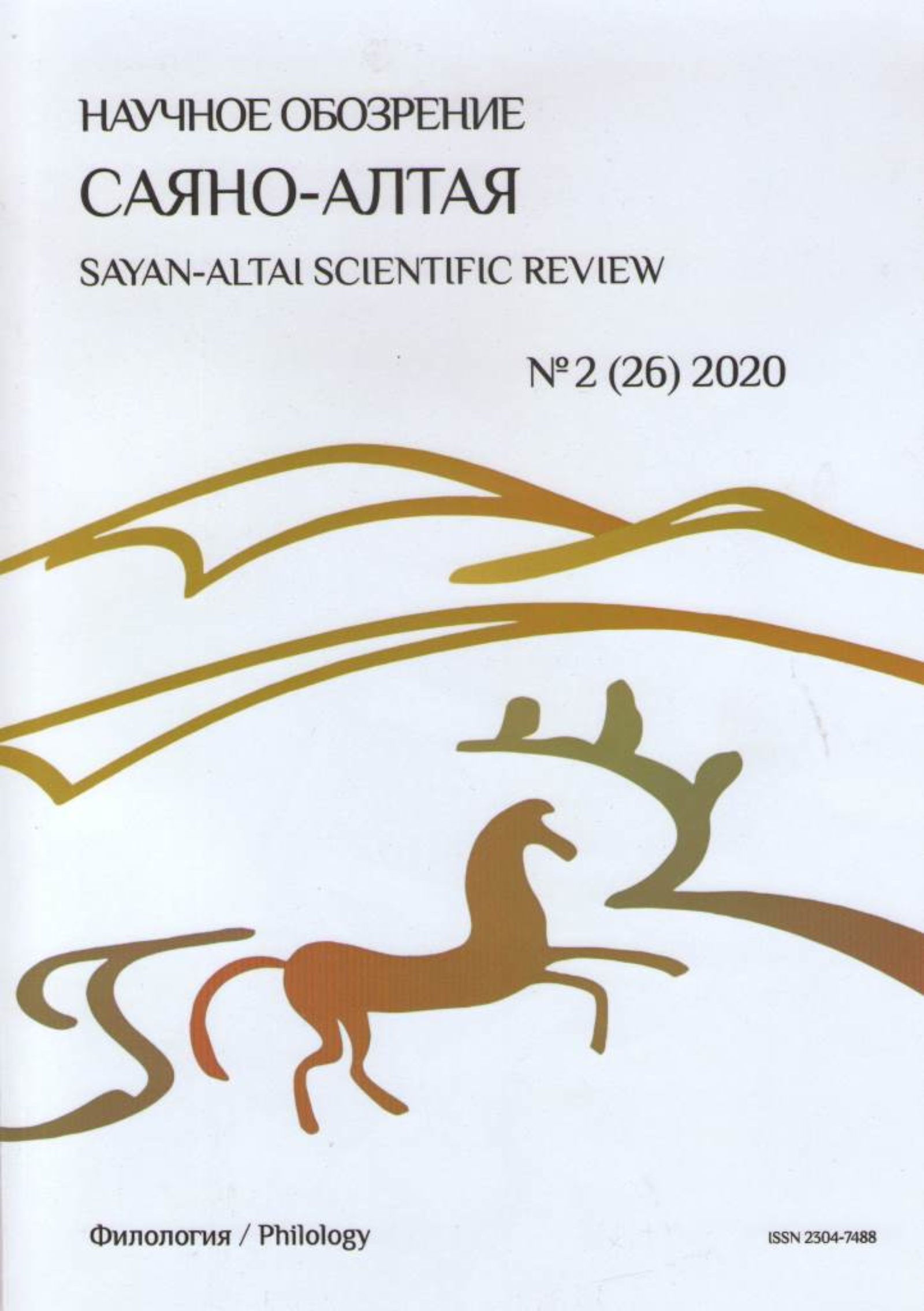Отзыв на «аккорды» театра «Белый Рояль»
ОТЗЫВ НА «АККОРДЫ» ТЕАТРА «БЕЛЫЙ РОЯЛЬ»THE REVIEW ON THE CHORDS OF THE "WHITE PIANO" THEATRE
Н. К. БарановаN.K....
Образ Коркыт Ата в фольклоре и литературе
ОБРАЗ КОРКЫТ АТА В ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕTHE IMAGE OF KORKYT АТА IN FOLKLORE AND LITERATURE
Ж. А. АймухамбетZH.A....