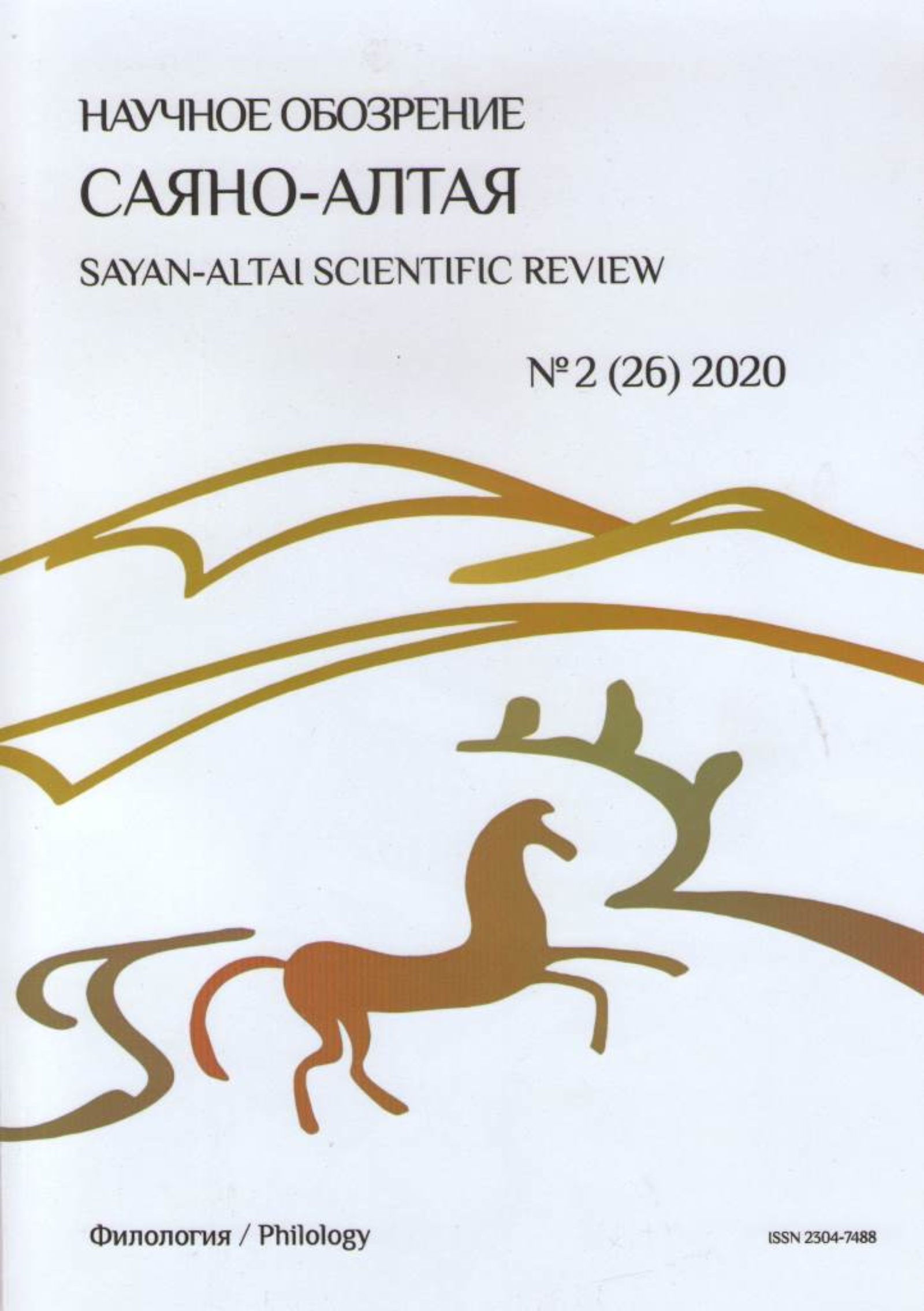Рецензия на Сборник песен и тахпахов автора-составителя Г. Г. Танбаев «Чирiм Пайы» Чыындызы – «Сокровище родной земли»: нотное издание.
РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК ПЕСЕН И ТАХПАХОВ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ Г. Г. ТАНБАЕВА «ЧИРIМ ПАЙЫ» ЧЫЫНДЫЗЫ - «СОКРОВИЩЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»: НОТНОЕ ИЗДАНИЕ.
- Абакан: Союз композиторов Хакасии, 2019. - 128 с.REVIEW
ON THE COLLECTION OF SONGS AND...
Этнопоэтические традиции в рассказе Л. В. Костяковой «Манящая тайна Сымбала»
ЭТНОПОЭТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В РАССКАЗЕ Л. В. КОСТЯКОВОЙ «МАНЯЩАЯ ТАЙНА СЫМБАЛА»REFLECTION ON THE EPIC TRADITIONS IN THE WORKS OF L. V. KOSTYAKOVA
Л. В....
Взаимовлияние дискурсов поэтических формаций в контексте постсимволической культурной общности XX в.
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ДИСКУРСОВ ПОЭТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ПОСТСИМВОЛИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ XX в.THE INTERPLAY BETWEEN POETIC DISCOURSE FORMATIONS IN THE CONTEXT OF POSTSYMBOLISM CULTURAL COMMUNITY OF THE TWENTIETH...
Алампа – выдающийся сын Якутского народа
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД В ЛИРИКЕ ЛАЗАРЯ КОКЫШЕВАTHE MUSICAL CODE IN THE LYRICS OF LAZARYA KOKYSHEVA
А. О. СанааA.O....
Музыкальный код в лирике Лазаря Кокышева
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД В ЛИРИКЕ ЛАЗАРЯ КОКЫШЕВАTHE MUSICAL CODE IN THE LYRICS OF LAZARYA KOKYSHEVA
А. О. СанааA.O....
Русско-хакасские литературные связи: поэзия Н.М. Ахпашевой
РУССКО-ХАКАССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ:
ПОЭЗИЯ Н.М. АХПАШЕВОЙRUSSIAN-KHAKASS LITERATURE LINKAGE: POETRY OF N.M.AKHPASHEVA
О.Э. ПоташинаО. E....
Верификация геналогических преданий о роде Картиных (Хартылар)
ВЕРИФИКАЦИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДАНИЙ О РОДЕ КАРТИНЫХ (ХАРТЫЛАР)VERIFICATION OF GENEALOGICAL STORIES ABOUT THE FAMILY OF KARTINS (HARTYLAR)
А. С. НилоговA.S....
Особенности жанра антиутопии в повестях В. Маканина.
ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА АНТИУТОПИИ В ПОВЕСТЯХ В. МАКАНИНАFEATURES OF THE GENRE DYSTOPIAN IN STORIES AT V. MAKANIN
Е.Д. Монгуш
E.D....