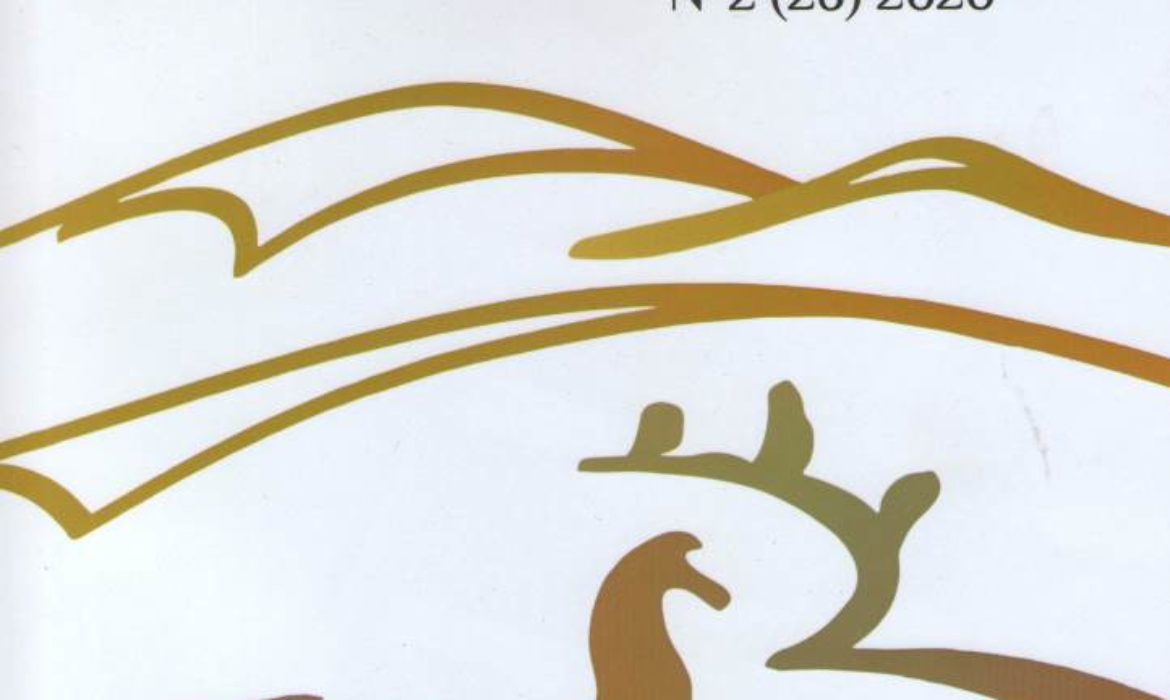К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ ЕНИСЕЙСКИХ КЫРГИЗОВ И ТЯНЬ-ШАНЬСКИХ КЫРГЫЗОВ
ТО THE ETHNOGENESIS OF THE YENISEI KYRGYZ AND THE TIAN SHAN KIRGHIZ
В. Е. Майногашева
V. E. Maynogasheva
В статье поставлен вопрос и путь решения, уточняющий этническое происхождение енисейских кыргизов («киргизов») как изначальных кэризов – названия этноса, означающего, предположительно, с древнеиранского «орошенцы», тюрками и монголами, воспринимавшихся чужаками на Саяно-Алтае. Сделана попытка определить их генетическую принадлежность, дифференцировать от тянь-шаньских тюркоязычных кыр- гызов. Автор предполагает и происшедшую ошибку – небольшое искажение первоначального, истинного этнического названия на новом месте их переселения из китайских оазисов на Саяно-Алтай, в долину Енисея, доказывая это их отличием и по их антропологическому типу, и по языку, и по занятию земледелием путем построения оросительных каналов, строительной культуре, духовной приверженности к древним иранцам.
The article considers the issue and solution specifying an ethnic origin of the Yenisei Kyrgyz as initial keriz – name of the ethnos meaning, presumably from Old Iranian, “irrigators”, who were perceived by Turkic peoples and Mongols by as aliens in the Sayan-Altai. The attempt to define their genetic belonging and to differentiate them from the Tian Shan Turkic-speaking Kirghiz is made. The author assumes also the occurred mistake – small distortion of the initial, true ethnic name on the new place of their migration from the Chinese oases to the Sayan- Altai, to the valley of Yenisei – proving it by their difference both in their anthropological type and language, and also in agricultural occupation by building of irrigation canals, construction culture, spiritual commitment to the ancient Iranians.
В ряде областей гуманитарных наук – исторических и филологических – сложилось так, насколько мне известно, что названия енисейских кыргизов и тянь-шаньских кыргызов (я не привожу все разнописания) обычно почти не рассматриваются в связи с их жизненными занятиями и путями исторического развития, особенно первых. Но анализ названных этнонимов лингвистами уже давался [1, с. 145; 2, с. 86]. Л. Р. Кызласов в связи с этими трудами отметил, что они лингвистически по происхождению с тюркских языков не объясняются [3, с. 141]. Он считал кыр- гис не тюркским словом. И, видимо, был прав.
Данная работа посвящена попытке предложить свой взгляд на эти этнонимы на основе мною обнаруженных фактов, оставленных известными учеными, но до сих пор находящихся почти вне внимания научной общественности, а также на основе привлечения, хотя и скудного на этот счет, материала обрядовой поэзии хакасов.
Сразу следует отметить, термин енисейские киргизы, как и мне представляется, не тюркского происхождения, в отличие от слова кыргыз/хыр- хыс. Об их значениях в связи с некоторыми их жизненными занятиями и будет мой разговор.
К настоящему времени в науке более доказательным признается утверждение, точнее концепция известного, выдающегося ученого Л. Р. Кызласова (ее начало лежит еще в 50-х гг. XX в.) о том, что кыргызы Тянь-Шаня и кыр- гизы Енисея являют собою два разных этноса, не имеющих между собою генетического родства [4]. Они и изначально не жили в каком-то одном пространстве и никогда «не роднились» между собою. Наиболее привычно думать и утверждать о долине р. Енисей как родине енисейских кыргизов (ее верхняя и средняя части), а также, что ранее жили они у подножия Монгольского Алтая (район Больших озер), а это – ближе к Кызылу (Тыве) и много дальше от Улан-Батора (Монголии). А тянь-шаньские кыргызы первоначально жили в монгольских (орхонских) степях, и только позднее перебрались к подножию тянь- шаньских гор. Причем шли туда совсем не через долину Енисея, а через Синьцзян, что не случайно. Но случайно схожие, полностью однако не совпадающие, названия этносов для некоторых ученых все-таки служат доказательным критерием якобы их генетического родства: остальные факты для них не в счет.
С моей точки зрения, возможно, произошла, прежде всего, путаница в написании разных этнонимов учеными, по причине незнания языков их. Тут и вспомнить не грех об отмечавшемся известном возмущении Н. Ф. Катанова в свое время искаженными записями текстов устной поэзии тюркских народов, допущенных ЕЕ. Ерум-Ержимайло [5, с. 221-228]. Такому недостатку резко противостоят многие записи выдающегося тюрколога Н.Ф. Катанова и великого тюрколога-фундаменталиста В. В. Радлова, создавшего академическую транскрипцию алфавита для точного написания слов и текстов тюркоязычной поэзии. В итоге им создано 8 томов «Опыта словаря тюркских наречий» и издано еще много томов поэзии тюркских этносов. Его «Опыт словаря тюркских наречий» и сегодня спасает текстологическую работу тюркских фольклористов, что мною испытано на себе. А ценнейшие знания В. В. Радлова по истории енисейских кыргизов заслуживают, по-моему, особого научного внимания. На основе изучения текстов древнетюркских писаниц этот удивительный ученый, тюрколог-корифей, утверждает, в частности, что в VII столетии кыргизы носят название кыргыз и живут, как «явствует» из указанных текстов, «в верховьях Енисея» и «считаются» среди окружающих племен «чужим племенем». От себя поставлю вопрос. Почему же они другими окружающими их местными племенами на Саяно-Алтае воспринимались чужаками? Потому что, прежде всего, внешне отличались иным антропологическим типом – белизной тел, светлой волосистостью, голубыми глазами, высоким ростом, значительной красотой. Еоворили на неизвестном тюркам, монголам, енисейцам и другим языке. Занимались земледелием путем рытья оросительных каналов, т. е. особой формой сельскохозяйственного производства, не свойственного местным жителям. Далее: <…> этот факт, – пишет В. В. Радлов, – подтверждает отчасти показание китайцев о том, что киргизы – народ не тюркского и не монгольского происхождения, несмотря на то, что они уже тюркизированы в VIII столетии, они приводятся в перечислении неродственных народов», В. В. Радлов отмечает там же в своей работе, что киргизы при господстве династии Тан в VIII в говорили уже на тюркском языке. Предполагал он енисейское (от кетов) происхождение киргизов [6, с. 3]. Но вернее будет сказать: они генетически происходили от древних иранцев (по Л.Р Кызласову и В.Е. Майногашевой). Считаю, пусть на основе найденных крупиц, но в настоящее время все же можно предположить и утверждать об их истоке от древнеиранского мира. Иначе, ко всему прочему, почему бы они были богатыми носителями древнеиранской мировоззренческой культуры. Известно, что поклонялись Огню, считая ее могущественной очистительной силой, сжигали своих умерших на костре (вспомните и инду- сов-арийцев). Тюркоязычными став, они, можно думать, почти через тысячу лет, богиню Огня стали называть От Ине – Мать-Огонь. Поклонялись и крылатой светловолосой древнеиранской богине Майе, ставшей у них, уже тюркоязычных, Ымай Ине – тоже богиней плодородия, защиты детей, спускающейся с Неба (а как же бы спускалась, если б не было крыльев – М.И. Боргояков). Л. Р. Кызласов писал, что они поклонялись корове, к которой возводили свое происхождение, что тоже говорит о них как об арийцах 17, с. 143]. И почему кыргизы Енисея при строительстве дворцов, даже и в средневековье, ориентировались, как не один раз писал Л. Р. Кызласов, на запад, используя древнеиранскую архитектуру? [8, с. 67]. Потому что она для них своя, родная. Они сохраняли верность своей цивилизации.
Есть основание, с моей точки зрения, видеть в хакасской Ымай Ине крылатую древнеиранскую богиню Майю, считавшейся у них богиней плодородия и защиты детей (светловолосой блондинкой). У тюркоязычных этносов к ее имени подставили ы как протеза: Ымай Ине.
Имеется и другая версия происхождения имени Ымай. Тюрколог М.И. Боргояков в свое время дал интересный анализ происхождения и эволюции образа Ымай/Умай от тюркского (хакасского) названия птицы Хубай/Хумай (лебедь и др.), пережившей не один этап в своем развитии, став в итоге Умай/Ымай, Май-Ине [9, с. 135-141; 10]. В этих трудах он впервые открыл взаимодействия фольклорных сюжетов, образов и этнографических явлений между древнеиранскими, тюркоязычными, угорскими и другими этносами. Это явилось большим вкладом в науку. Я же оказываюсь продолжательницей этого направления, причем совсем неожиданно для себя – фольклорный материал меня тоже вывел на этот путь после М.И. Боргоякова. Южносибирские народы тоже многое взяли от древних иранцев, особенно в духовном мировоззрении. Предки хакасов – енисейские кыргизы, как дополнительно увидим, и сами были из древних иранцев. Взаимообмен ценностями культуры имел место, как известно, с далекой древности между разными народами. Тот же этнограф Е. К. Яковлев в названном выше труде дал немало таких примеров. Я не раскрываю радловских показаний самого процесса, т. е. в каких условиях происходила тюркизация енисейских кыргизов в Минусинской котловине. Б1о отмечу, енисейским кыргизам древние иранцы дали еще и древнеиранского бога солнца (зороастризм, солнцепоклонничество), ставшем позднее на тюркском языке под хакасским именем Улъгеиь происшедшего от слов Улуг Кун «Большое Солнце» как результат постепенного, как принято у тюркоязычных, сокращения первого слова сложного термина: Улуг Кун превратилось в Улкун, затем – Улъгенъ. Он у них почитался за Единого Бога, т. е. за Всевышнего.
Широко известно, как выше сказано, что в китайских летописях написано о рыжеволосых, голубоглазых и рослых енисейских кыргызах (хакасах). В этом видели их сходство с усунями, динлинами и др. светлокожими племенами. А ведь усуни, по И. В. Кюнеру, считаются славянами – предками русских [11, с. 99].
Вопросу общности ряда черт в сюжетах, мотивах в хакасских алыптыг нымахах и осетинских (аланских) нартах – потомков древних иранцев было посвящено специальное исследование [12, с. 42-50]. Сходство поразительно и в том, что имеется общекорневой термин нарты и хакасский нартпах, обозначающие жанр героического эпоса у тех и других (нартпах – «слава», «хвала» нарту) и, видимо, надо считать, что у хакасов термин состоит из двух отдельных слов, которые следовало бы так и писать. Слово пах значит «слава», «хвала» в шорском диалекте хакасского языка. Е1о собиратели фольклора – Н.Ф. Катанов и др., писали название жанра слитно, что, видимо, не точно. И еще одна из персонажей у осетин-аланов и у хакасов функционирует под общим корнем Сибиль-ши / Сибиль-дей. И в обоих языках означает «волшебница», «волшебник».
Предки хакасов, по-видимому, принадлежали к разным племенам древних иранцев: к аланам- тагарцам (сакам-тиграхауда), сакам-тарадарайа [13, с. 20]. А ведь известны и массагеты (большие юэчжи, малые юэчжи), пазырыкцы и др. Напомню, хакасы в некоторых аалах («селах») до сих пор хоронят по древнеиранской традиции, закрывая могилы сверх земли скальными плитами, как это делали пазырыкцы. Особо надо обратить внимание на тохаров – выходцев тоже из древних иранцев.
Показательно то, что саки из оазиса Хотан, как свидетельствует одно исследование (думаю, оно правильно), имели ряд общих древнеиранских слов с хакасами, потомками енисейских кыргизов. Например, слова, обозначающие органы человеческого тела: баар/паар «печень», «лоно», «грудь»; чода/huta «голень»; aac/aha «рот», «уста» и др. [14, с. 9-11].
Но вернемся к древним енисейским кырги- зам. Как выше отмечалось, они же известны как создатели оросительных каналов в Минусинской котловине. Откуда это? Здесь же и вообще в сибирской, так сказать, Центральной Азии, казалось бы, кругом с древности жили в основном скотоводы, рыболовы, охотники, добытчики разных руд, металлообработчики, строители и т. и. Но земледельцы… ими оказались кыргизы / кэргизы. Эти кэргизы как сельскохозяйственные производители, в сущности, имея дело с оросительными каналами, работали почти на инженерном уровне, освоив технологию дела. Это же, как и добычу, и обработку руд, может быть, допустимо назвать техническим инженерным достижением.
Л. Р. Кызласов в одном из последних своих трудов высказал, я бы назвала, ценнейшее откровение, адекватное с озарением: он подспудно предположил, не происходят ли древние кыргизы от древнеиранских тохаров и саков из оазисов «Хотана, Гума, Яркенда и Кашгара» [15, с. 140-145]. Также им отмечено, что эти древние иранцы исповедовали солнцепоклонничество [16, с. 142-143].
Отталкиваясь от гипотезы выдающегося историка, мною произведен поиск по истории тохар. И тут обнаружилась чрезвычайно интересная историческая выкладка о тохарах, сделанная нашим выдающимся евразийцем-россияниным Л.Н. Гумилевым, в его книге «Этногенез и биосфера Земли» [17, с. 87-88]. Этот мой поиск привел меня к изучению монографии известного петербургского (ленинградского) ираниста Гер- ценберга 118, с. 153]. Также ныне моя многолетняя текстологическая работа над обрядовой поэзией хакасов вознаграждает драгоценной крупицей, связанной с земледелием.
Итак, во-первых, для занятия посевом злаковых или каких-то других сельскохозяйственных культур нужно иметь семена, а последние должны обладать энергией для всхода. Совсем неслучайно хакасский народ сохранил такой образец обрядовой поэзии, как почтительное отношение к духу семени (обычно народ хранит то, чем он дорожит). Записал же эту драгоценность, хотя и в единственном варианте, наш знаменитый тюрколог Н. Ф. Катанов и опубликовал в своей известной книге «Образцы народной литературы тюркских племен…» под названием Ас тдстп – «Дух зерна» [19, с. 588]. Из содержания этого образца следует, что духу зерна хакасскими предками воздавалось весьма почтительное отношение, прежде всего за то, что дух прошел нелегкий путь – через самую знаменитую пустыню Гоби и оставившему позади себя китайскую землю (древних иранцев, в том числе кэризов, вытеснили оттуда гунны). Прославление духа зерна хотя и не сходствует с гимнами индийской «Ригведы», но некоторое восхваление можно чувствовать в описании непосредственных действий этого духа. Прямые восхваления, возможно, стерлись в тысячелетиях бытования в устах тех, кто донес и сохранил его до нас как достоинство, но запечатлели его первоначальную структуру, видимо, те древние иранцы, пришедшие на Енисей вместе с этими злаковыми семенами, т. е. с «духом зерна».
Ас тости
[Слово кама] духу зерна [и трав]– Ты китайскую землю преодолел,
У тебя красный табак из сухой древесной коринки!
Бело-буланый конь со змее[-черной] спиной –
На нем верхом ты!
Перед тем, как перевалить китайскую землю.
Из стороны в сторону качнулся ты!
Красный табак свой просыпая-рассыпая,
[Куря], им затянулся ты [пауза]!Хлюпая трубкой своей из желтой меди.
Глубоко затягивался ты [пауза]!
В свои желтомедные стремена, [встав] рядом,
[ногами] упирался ты!Песчаное море переходил ты
Шестигранной желтомедной лопатой [гребя], ты Под луною и солнцем искрил! [19, с. 588]
(Перевод заголовка и текста автора данного труда).
Это – только фрагмент из поэзии культа духа зерна |и трав|, который восхваляется подобно мужественному человеку. Далее в этом тексте прямо сказано о духе зерна, пришедшем из китайской земли на хребет Алтая. Этот дух перешел песчаное море, т. е. пустыню Гоби. Обратим внимание – у него все орудия труда – лопата (а речь о гребле – В.М), конское стремя, также его курительная трубка представлены из желтой меди. А в истории известно, что медь связывается в Центральной Азии (в будущей Хакасии) с афанасьевцами [20, с. 28], тоже древними иранцами.
В дальнейшем же говорится еще, что дух зерна сероглазый «ала харахтыг», возможно, это тюркоязычное определение и голубых глаз? Все это приведенное составляет олицетворение древнего иранца, отраженного в духе зерна [и трав]. От этого духа зерна и трав выросли растительность, цветы и то, что спасает людей от голода, т. е. вырастают хлеба, пища.
Дух зерна тут понимается, возможно, шире, чем дух хлебного зерна. Он также дух вообще семян растительности, т. е. пищи для людей и для скота, поэтому кам умоляет этого духа дать жизнь и блага и для людей, и для скота. Но за этим духом стоит древний иранец-земледелец, т. е. он символизирует древнего иранца. Коль пришел сероглазый этнос из китайского оазиса, то и дух семени зерна, им принесенный, тоже сероглаз. Такова мифология древности. Сероглазость и голубоглазость близки друг другу.
Связывать культуру земледелия наших предков с черноголовыми насельниками Китая нет у нас никаких исторических оснований. Но известно, страну же населяли и светловолосые племена, жившие в китайских оазисах Хотан, Яркенд и др., среди которых были известны и тохары [3].
А тохары, оказывается, пишет Л. Н. Гумилев, не есть их этническое название, а всего лишь прозвище, данное им тибетцами, и означает «белая голова (tha gar)», т. е. «блондин», а это есть татар [17, с. 87-88]. То есть, видимо, он прав: тохар и тагар – это одно и то же слово-прозвище и означает «белая голова», «блондин», а таковыми были и енисейские кыргизы. Тохары, пишет Л. Н. Гумилев, сначала (речь о доенисейской жизни – В. М), жили в бассейне р. Тарим, а русло этой реки проходило через пустыню Такла-Макан (река имеет начало в острове реки Арал между рукавами трех рек: Яркенд-дарья, Аксу-дарья и Хотан-дарья). Рядом Турфанский оазис, который «представлял древний культурный центр в очень глубокой впадине» 117, с. 87-88]. Турфанцы изучили иранскую систему «подземного водоснабжения» полей, пишет Л.Н Гумилев. Перефразируя его мысль, можно сказать: это как раз то, что они научились добывать воду из-под земли и орошать поля, т. е. орошенцы. Отсюда, вполне можно предположить, носителей этого полевого орошения называли (по-древнеирански) кэризы (выделено мною – В.М). Рассказывают ныне российские солдаты, у афганцев кэриз означает «колодец», т. е. то, что связано тоже с водой.
Известно, что в древности имя человека чаще всего определялось по его занятию. У древних тюрков, например, по данным рунических надписей, Кутлуг за создание Второго тюркского каганата, т. е. за подвиг, получил второе имя Ильте- риш, что значит Собиратель государства (народа, племен) [5, с. 222-228].
Таких примеров можно найти множество и в хакасских алыптыг нымахах. Кроме того, в алыптыг нымахах живет устойчивая традиция, когда при знакомстве с приехавшим богатырем хозяин дома обязательно спрашивает: Адыц, солац кем полды? – «Как имя, как прозвище у тебя?» Еще и относительно недавно у хакасов ребенок имел два имени: домашнее прозвище и имя для мира людей. Прозвищем старались энергетически защитить ребенка, поэтому оно часто давалось самыми некрасивыми словами, например, Adaii – «Собака», Чабал Оол – «Злой Парень» и т.д. Обычай давать прозвище, несомненно, бытовал и по отношению к племенам, родам, этносам не только у тюркоязычных этносов.
А имя одного из древнеиранских племен – массагеты – означает «рыбаки», от слова masja – рыба [21, с. 152-153]. Выдающийся востоковед Ю. Н. Рерих предполагал, что древнеиранское племя юэчжи – это и есть тохары. Их другое название кушаны [22, с. 270-271].
Итак, кэризы – это, несомненно, истинно этническое имя енисейских кыргизов (как ныне часто их называют в науке).
По-видимому, сначала они пришли к подножью Монгольского Алтая из китайских оазисов. Но их имя кэризы постепенно подверглось небольшому изменению – в нем добавился звук г после кэр, возможно, это искажение на новом месте появилось после переселения на Енисей с Монгольского Алтая под влиянием тюркоязычных или монголоязычных племен, а может быть, добавлено учеными-летописцами. Надо признать такое изменение обычным явлением, свойственным и носителям разноплеменных языков. Кто-то не может точно произнести в силу недостатка слуха или не может произнести по слабости артикуляции и т. д.
Можно привести много примеров того, как этнические термины искажались чужестранцами. Например, тот же Плано Карпини в своем труде о поездке к монголам в 1246 г. называет монголов – «монгал», Чингис-хана – «Хингисхан», его сына Угедея – «Оккодай». уйгуров – «гуйюр», самоедов – «самогеды», ойратов – «войрат» и т.д. [23, с. 60]. Также и другие авторы, думаю, в название хакасских предков – «кэризы» – вставили звук г, и получилось «кэргизы», а отсюда появилась неадекватная «научная концепция», что тянь- шаньские кыргызы и енисейские кыргизы якобы этносы генетически родственные. Это один из примеров, как рождается в науке неточность и даже грубая ложь. В основе такого искажения этнических терминов, повторюсь, лежат и «недослышания» иностранцами произношений в чужом языке или в силу отсутствия в их родном языке каких-то определенных созвучий, характерных для чужого языка. Поэтому важно, по-моему, этнические термины при написании, может быть, сверять со знатоками языка не один раз и не с одним носителем его, добиваясь наибольшей точности.
Так что хочется думать и отстаивать точность в науке как особо ценную субстанцию, и ни в коем случае ею не пренебрегать, как это, к сожалению, делалось у Плано Карпини.
Вспомним и имя хакасского народа. Даже сами хакасы называли и по ныне называют свое этническое имя по-разному: кахас, хахас, хагас, хакас. Кто и как может произнести одно и то же слово, так и произносит.
А ведь на Енисее именно кыргизы были блондинами и строителями оросительных каналов. Их по языку, по культуре окружающие тюркоязычные, угроязычные, монголоязычные и другие племена, как утверждается, и воспринимали чужаками.
По прозвищу тохары (м.б., татары, Л.Н. Гумилев писал: тохар (tha-gar), а по истинно этническому имени кэризы/кэргизы властвовали как «аристократический род» над тюркоязычными и другими племенами в Минусинской котловине и юге Сибири.
Кэризы – может быть, так их и надо называть в научных трудах во имя дифференциации двух этносов. А, между прочим, ведь почти такое произношение еще в XX в. у нас в науке имело место. Причем у такого высокочтимого историка как академик В. В. Бартольд. Он писал кэргисы [24, с. 500]. А там же на стр. 508-509 он упоминает, что Плано Карпини (1246) енисейских кыргизов называл кергис, а через 7 лет после него Рубрук (1254) пишет о народе керкнс. Искажение, как видим, истинного названия кэризы/кэргизы незначительны. Бартольд тоже считал кэргисов происшедшими от енисейцев-кетов. Значит тюркоязычными их по происхождению тоже не считал.
Таким образом, факты исторического значения собираются буквально по крупицам. Это не значит, что их надо отвергать по причине их малости, что они всего лишь крупицы. Время многое из ценностей стирает, нивелирует, но научная мысль имеет свою и интуитивную цепкость. У нас есть полное основание, думаю, предположить вслед за Л. Р. Кызласовым, что енисейские кыргизы происходят от древнеиранских племен, а именно от тохар/тагар и хотано-саков. И следует восстановить их точное этническое имя хотя бы в самой науке, как было первоначально: кэризы, а не кыргызы/киргизы. А тянь-шаньский этнос называть хыргыс/хырхыс. В их фольклоре известна также легенда, что они произошли от сорока девушек – хырых хыс. Эту легенду привел еще в 80-х гг. XX в. академик- тюрколог А.Н. Кононов [1, с. 145]. Их первоначальной родиной была, как утверждается историками, Монголия – ее орхонские степи.
А может быть, хырхыс значит «девушка из горного хребта» – они жили и живут в горных местностях. Изначально назывались кыркун («горный гун») [25, с. 169-175], тюркоязычные, в родстве с кыпчаками, жили в вассалах Монгольской империи, служили в их армии.
А позднее совсем неслучайно они уходили из Монголии в район Тянь-Шаня не через долину Енисея, а через Синьцзян. Енисейских кыргизов в древности и средневековье они не признавали за свою родню. Разве это может быть случайностью? Об этом же свидетельствует тот доказательно говорящий средневековый факт, что они, служа в армии Чингиз-хана, помогали монголам громить енисейских кыргизов [26, с. 1281. Но другое дело, что в новое время – в XVI-XVIII вв. – какую-то часть енисейских кыргизов джунгары насильственно могли угнать на север Кыркыз- стана, как пишут историки, но этой темы здесь я не касаюсь. Там как будто до сих пор их потомков – северных кыркызов – не любят, относятся как к чужакам.
Что касается хакасского фольклора, особенно алыптыг нымаха – героического эпоса – то ряд исследований данного автора подтверждает тесную историческую связь народа, их создавшего, с древнеиранским миром. Эта научная концепция о том, что одной из ветвей происхождения хакасов отчетливо выступают древнеиранские корни, прежде всего, в эпическом изображении смешанных семей, их конфликтах, также в субстратах культуры – в целом их ряде, начиная с поклонения Богу Ульгеню (богу солнца – Большому Солнцу Улуг Кун) – это зороастризм, солнцепоклонничество, о чем тоже выше говорилось (но подробно об этом следует сказать в специальной статье). Это и культы матери Огня (От Ине), матери Ымай – богини плодородия и защиты детей, матери-женщины, восходящей к древнеиранской блондинке Майе – крылатой богине плодородия (ее портрет изображен древними иранцами на фаларе, обнаруженном в Бак- трии, т. е. стране персов (родственных древним иранцам) и опубликован великим востоковедом Ю. Н. Рерихом в его вышеназванном томе.
А индийская «Ригведа» с ее гимнами Агни, т. е. Огню, разве «не родня», пусть и далекая, нашим хакасским культам матери Огня [27, с 5-16, 22, 32]. Сходства в фольклоре разных народов бывают и немало, даже и генетически неродственных. Но когда встречаются совпадения имен персонажей, жанровых терминов, причем, казалось бы, разноязычных, далеких друг от друга древних племен, то возникает вопрос: конкретно, в быту как это происходит?
Современному человеку это может представляться даже странным.
Между тем, здесь действовала, думается, определенная историко-бытовая закономерность. Тюркоязычные предки хакасов в древности много враждовали с древними иранцами, вели немало войн, а потом и сближались, создавая смешанные семьи, о чем данных в алыптыг нымахах имеется достаточно. Нельзя не учитывать и условия бытования в древности этого жанра у народов.
Такой жанр фольклора как алыптыг нымах изначально был сакральным, т. е. священным, тайным, о чем мне, собирателю фольклора, сказители иногда шепотом признавались. Их в древности пели только людям своей семьи, рода и племени. Почему? Потому что пения-повествования первоначально посвящались прославлению своих собственных живых героев – богатырей- защитников, кормильцев народа (ханы-охотники, ханы-воины). То есть самым сильным, умелым, мудрым и добрым представителям рода, племени. Они, кровнородственные, и становились ханами-вождями. Хан означает «кровь» (думаю, что открытие значения этого титула хан принадлежит ПА. Троякову). Древний человек всего боялся. Боялся и сглаза, и потери своего вождя. Но с появлением смешанных браков, как можно предполагать, дело несколько менялось. Например, в семье – тюркоязычный отец и ираноязычная мать. У них рождается сын, который с юности становится сказителем, поет алыптыг нымахи, не скрывая ни от отца, ни от матери. Они оба ему родные, а не чужестранцы. А родственники с их обеих сторон, говорящие на разных языках, тоже ему кровная родня, где тоже могут быть сказители или сказитель. Вот у них и могут возникнуть взаимообмены, взаимообогащения сюжетов, мотивов, введение новых заимствованных имен персонажей. Вот почему у исследователя жанра алыптыг нымаха (этого великого исторического явления культуры), есть все основания говорить, например, о разных генетических ветвях происхождения этноса.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII-IX вв. – Л.: Наука, 1980. – 256 с.
2. Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (имя). – М.: Наука, 1977. – 191 с.
3. Кызласов Л. Р. Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности Южной Сибири. – М.: Восточная литература, 2001. – 173 с.
4. Кызласов Л. Р. О связях киргизов Енисея и Тянь- Шаня (к вопросу о происхождении киргизского народа) // Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Т. 3. – Фрунзе, 1959. –
С. 104-113.
5. Майногашева В.Е. О значениях имен одного из древнетюркских каганов, принца Кюльтегина и хакасских эпических богатырей // Хакасский героический эпос алыптыг нымах: поиски исторических реалий и периодизация (избранные труды). – Абакан: Бригантина, 2015. – С. 222-228.
6. Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог Этнографического отдела музея. – Минусия, 1900. – 357 с.
7. Кызласов Л. Р. Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности Южной Сибири. – М.: Восточная литература, 2001.
8. Кызласов Л. Р. Очерки по истории Сибири и Центральной Азии. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1992.
9. Боргояков М.И. Об одном древнейшем мифологическом сюжете, его отражении в фольклоре народов Евразии // Вопросы древней истории Южной Сибири. – Абакан: Полиграфпредприя- тие «Хакасия», 1984. – С. 135-141.
10. Боргояков М.И. Скифо-тюркские (хакасские) этнографические и фольклорные параллели // Народы Азии и Африки, 1975. – № 6. – С.110-120.
11. Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. – М„ 1961. – С. 99.
12. Майногашева В. Е. Об общности некоторых основ мифологии и эпоса хакасов и осетин – потомков скифо-иранцев // Россия и Хакасия: 290 лет совместного развития. – Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та, 1998. – С. 42-50.
13. Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. – М.. 1967.
14. Майногашева В.Е. Древнеиранское лексическое наследие в языке эпоса хакасов // Ежегодник Ин-та Саяно-алтайской тюркологии Хакасского гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова. – Абакан, 2002, вып. VI. – С. 9-11.
15. Кызласов Л.Р. Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности Южной Сибири. – М.: Восточная литература, 2001. – С. 140-145.
16. Кызласов Л.Р. Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности Южной Сибири. – М.: Восточная литература, 2001. – С. 142-143.
17. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: ДИДИК, 1994.
18. Герценберг Л. Г. Хотано-сакский язык. Серия: Языки народов Азии и Африки. – М.: Наука, 1965.
19. Катанов Н.Ф. Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым, ч. IX. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переведенные Н. Ф. Катановым. Тексты. – СПб., 1907.
20. Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. – М.: Изд-во АН СССР. 1954.
21. Рерих Ю.Н. История Средней Азии, т. I. – М.: Мастер Банк, 2004.
23. Рерих Ю.Н. История Средней Азии, т. I. – М.: Мастер Банк, 2004.
24. Карпини И. де П. История монголов: [путевые заметки]. – М.: ТАУС, 2008. – 95 с.
25. Бартольд В. В. Сочинения, т. II, ч. 1 – М.: Восточная литература, 1963. – 1024 с.
26. Зуев Ю. А. Термин кыркун. К вопросу об этническом происхождении кыркызов по китайским источникам // Труды Ин-та истории [АН КиргССР]. – вып. IV. – Фрунзе, 1958. – С. 169-175.
27. Кызласов Л. Р. Гибель древнехакасского государства в 1293 г. // История Хакасии с древнейших времен до 1917 года / отв. редактор Л. Р. Кызласов. -М.: Наука, издательская фирма «Восточная литература», 1993. – С. 128-129.
28. Ригведа. Мандалы I-IV / издание подготовила Т.Я. Елизаренкова. – М„ 1989. – С. 5-32.